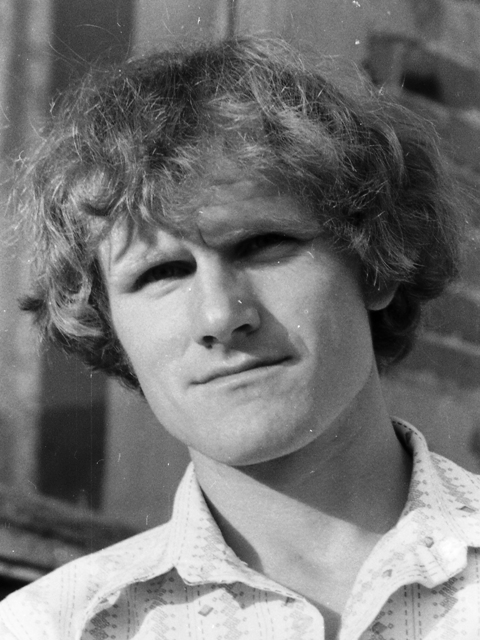
ИРИНА КОНОВАЛОВА
СЕРДЦУ ВИДНЕЕ
Газета «Сельская жизнь» (1990)
...— Значит, по-твоему, я не поэт? — заводит он своё, и по тому, как леденеют его голубые глаза, становится ясно, что мы на пороге ссоры.
— Ну, в некотором роде все мы поэты, — безрассудно подливаю я масла в огонь. — Даже бухгалтер, вдохновенно сочиняющий годовой отчет. Ты пишешь стихи, разве этого мало?
— Мало для чего — чтобы называться поэтом? — злится он. — И кто вообще это определяет? Пушкин — поэт, азбучная истина. Пушкин есть Пушкин, но я-то кто?
— Ты есть ты,— тракторист—это записано в твоей трудовой книжке. А поэзия...
Но он не слышит, он ушел, бросив мне снисходительное «прощай». Обидчивый.
Живёт себе до поры эдакий тракторист в хуторке Дружном на Белгородчине, совершенствуется в наследственной профессии пахаря, перекрывает нормо-смены, законно любуется своей фотографией на Доске почета. До поры. Покуда не начнет писать стихи. Покуда не прибьётся к литературе. Уточним, к литературе, в которой за период развитого социалистического реализма каких только «должностей» не придумано: поэт с большой буквы, поэт рабочий, крестьянский, профессиональный литератор, самодеятельный автор, поэт-любитель, член Союза...— да мало ли! Появилось новое лицо. Поэт-тракторист? Замечательно, особенно имея в виду классовый подход. Вот тебе, сверчок, твой шесток, до поры. Стишок, второй, третий. Книжечка, рецензия, другая. Литинститут, Союз писателей. Дополз — Литфонд, дачи, поездки, тиражи, гонорары...
Постарею — буду бриться,
Буду жить без бороды,
Будут строчки литься, виться,
Будут признаны труды,
Заведу портфель пузатый,
Шляпу, серое пальто,
И однажды в дом богатый
Не придет ко мне никто.
«Ну зачем же так прямолинейно?» — сконфузится кто-то. «А зачем так некрасива и прямолинейна наша жизнь?» — спрошу я в ответ. Любая административная сошка в областной писательской организации, и это общеизвестно, имеет в сто раз больше возможностей видеть мир, общаться с интересными людьми, потреблять достижения культуры, чем самый передовой механизатор. Тот же Волобуев. Живёт он на хуторе почти безвыездно, поскольку, во-первых, работа, а во-вторых, какой-никакой крестьянский двор, от которого даже самый непрактичный хозяин надолго не отлучится. Новых впечатлений здесь
— весна да осень. Колхозную библиотеку Виталий давным-давно перерос, клубные развлечения тем паче. Купить хорошую книгу, побывать в театре, на концерте, посмотреть фестивальный фильм
— банальная, но по-прежнему почти неразрешимая для сельского человека проблема. Общение... Я слышала, что истинные поэты беседуют с богами. Поэт-тракторист — с трактором.
Я отвык от тракторных педалей,
От руля, от чутких рычагов,
Погруженный в мир чужих печалей.
Мудрых мыслей и красивых слов.
Но вчера забросил я блокноты.
Сел в кабину, обнял тонкий руль.
Гладил нежно маленькие кнопки,
Говорил тихонько: — Не горюй.
Мы с тобой, дружок, ещё попашем,
Мы ещё прокатимся в поля.
Только он забыл о дружбе нашей
И вздохнул, за долгий день уставший:
— Вылезай, не надо нам ля-ля...
Вот так. Все настоящее в этом мире стремится к цельности — это понимает даже машина. Время идет, увлечение стихами давно переросло в потребность писать. Человек медлит. Есть уже и книжечка, и другая, хватает и положительных рецензий. Человек медлит.
— Чего ты ждешь? — говорю я ему.
— Весну, — отвечает он хмуро. — Возьму земли, сколько потяну, и — пахать.
— А я слышала, тебя зовут на литературную работу.
— А я боюсь. — Он становится еще мрачнее. — Я боюсь обрывать корни, понимаешь?
А чего тут понимать? Хуторков таких, с их доисторической хлябью, беспросветной скукой, безвылазной нищетой, мещанскими огородами, тьма — забыть и не вспомнить.
Может быть, и тьма, но вот этот-то один. И свой. И всё тут своё, и сам ты весь отсюда, и стихи твои растут из этой вот земли.
— Да и окажется еще, что я не поэт. Не настоящий, понимаешь?
Чего ж тут не понять. Вон их сколько — бывших «начинающих», подававших некогда надежды — отираются в околобогемных кругах, шумят, суетятся, но ясно: пустоцвет. От одного берега оттолкнулись, а к другому так и не причалили.
То ли дело — нырнуть в столичную жизнь на недельку — никаких сомнений! Потолкался на выставке Рериха, смотался на митинг в Лужники, занял очередь на фильм Куросавы, скупил на Пушкинской площади все самиздатовские газеты, побывал в Ленкоме, объелся пломбира, встрял в Литинституте в дискуссию о том, кто же всё-таки предал Россию, продефилировал по Арбату, отхватил в подземном переходе Ахматову за четвертной...
Энтузиазм у Волобуева иссякает к полудню пятницы.
— Пока! — кричит он в телефонную трубку.— Я возвращаюсь.
Пить из речки сгущенное небо.
Отгоняя от губ облака, —
Я счастливым таким еще не был,
Столько не пил еще молока.
Надышаться теперь, пробежаться
По пьянящему морю травы.
И упасть, и к травинке прижаться,
И не стряхивать пух с головы.
Будет небо изнеженно-синим,
Будто век не видало грозы,
И на пятки мои, на босые,
Прилетят две больших стрекозы.
Человеку тридцать. Возраст зрелости и решительных действий. Но человек медлит. Ему охота разглядеть небо.
— Не этим бы надо в твои годы заниматься, — пеняет ему отец. — Ну окончишь ты, допустим, Литинститут, получишь «корочки» — ты от этого что, косить, что ли, лучше станешь?
Виталий не отвечает. Он думает, о своем.
О том, что земля сохнет, что проворнее сеять надо. О том, что и нынче в колхозе ни обещанной арендой, ни тем более фермерством не пахнет — и чего было на собраниях языки точить? О том, что если он, Волобуев, уйдёт, то «смутьянов» в колхозе поубавится и председатель Бабакин будет этому рад. О том, что с упрямым характером везде жить сложно. И дальше, естественно, о том, что надо прежде окончательно разобраться, поэт он или не поэт — в том единственном, определённом для него смысле слова.
Ну а что же муза? Нет, не та поэтическая Муза, с крыльями, которая водит пером творца, а земная, что делит с ним судьбу на грешной земле и которой, как все поэты, Виталий посвящает стихи.
Сказать бы тебе: хорошая.
Сказать бы тебе: любимая.
Сказать бы: — Я так соскучился,
С ума без тебя сходил.
А вот прихожу растерянный,
Цветы приношу очень скромные.
Шепчу осторожно: — Здравствуйте,
Случайно тут рядом был...
Муза по имени Лида молчит. Неизвестно даже, знает ли она о посвящениях и вообще что-либо о стихах. Если честно, ей не до поэзии. Муза растит поэтовых дочек, тянет на себе хозяйство, служит проводницей в поездах дальнего следования и, по-видимому, в силу этих прозаических обстоятельств, не очень-то вникает, что он там строчит в своих блокнотах.
Время идёт. На одной чаше весов вся жизнь, траектория которой запрограммирована от прадедовых корней, на другой — стопочка листков, исписанных полудетским почерком.
Наверно, все будет когда-нибудь проще,
И чувства беднее и счастье бледнее,
Но нынче-то, нынче-то сердцу виднее,
В какой соловьи заливаются роще.
Зачем же пытаться унять это пенье.
Зачем опасаться таинственных трелей.
Когда-нибудь станем старей и хитрее,
Но нынче-то, нынче-то к черту терпенье.
Я в рощу бегу, задыхаясь и плача,
Хочу соловья разглядеть, научиться
Так сладостно петь, как волшебная птица.
Чтоб все в этой жизни устроить иначе.
И песню сложить, что давно не певалась,
И женщину милую радовать ею,
И не становиться старей и хитрее,
А помолодеть хоть на самую малость.
...Весна. Распускаются почки, и души человеческие прорастают стихами.
Граждане, будьте внимательны, среди нас ходят будущие поэты.
Источник: Газета «Сельская жизнь» № 99 (20983) от 29 апреля 1990 года
Виталий Волобуев, подготовка и публикация, 2022
- Виталий Волобуев. Мечтать и верить. Миниатюры. 2020
- Виталий Волобуев. Бежит времечко. Миниатюры. 2019
- Виталий Волобуев. Думать о хорошем. Миниатюры. 2018
- Миниатюры. Проза
- Виталий Волобуев. Прозаические миниатюры разных лет
- Виталий Волобуев. Письма к автору разных лет
- Николай Старшинов. Вашу рукопись я прочитал... Письмо. 1990
- Николай Старшинов. Вы стали работать интереснее. Письмо. 1988
- Николай Старшинов. Вашему письму был рад... Письмо. 1993
- Анна Шацкая. Значит нету разлук. В. Волобуев. 2006
- Виталий Волобуев. Публикации в журнале «Звонница» в формате PDF
- Виталий Волобуев. Начало. О стихотворении «Дождь идёт, и я иду...». 2022
- Виталий Волобуев. Живой! О стихотворении «Постарею, буду бриться...». 2021
- Виталий Волобуев. Первая публикация. 2021
- Анна Истомина. Луч золотой. Стихи в переводах В. Волобуева. 2021
- Виталий Волобуев. Я счастливым таким еще не был. Фотопоэзия. 2022
- Виталий Волобуев. Ни одной чужой души. 2021
- Виталий Волобуев. Июньская гроза. Стихи. 2021
- Ирина Мироненко. Где пропахли ветры пшеницей. 1997
- Виталий Волобуев. Возвращение. Из альманаха «Пересвет». 2020